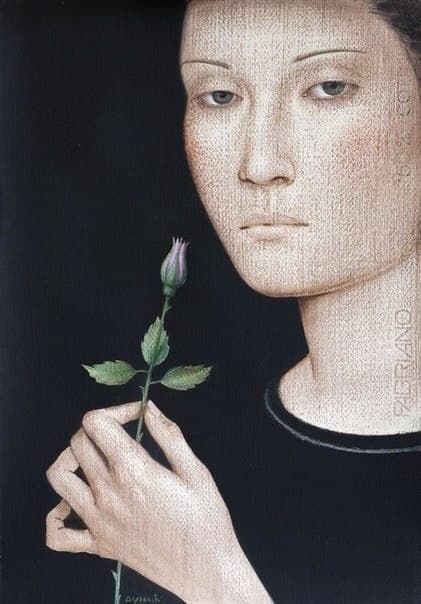Перевод фрагментов из главы «Хайнц Кохут и изобретение психоаналитической психологии самости» неопубликованной книги Роберта Салцмана «Психотерапия как личная исповедь»1. Пер. с англ. © Евгений Пустошкин, 2018.

Оптимальная фрустрация по Кохуту и Фрейду
Психоаналитическая работа направлена на то, чтобы помогать пациенту различать между эдиповыми желаниями и более зрелыми устремлениями, несущими вместе с собой подлинное удовлетворение посредством усердия в реальном мире. Фрейд назвал потребность в подобном различении «принципом реальности» и утверждал, что
«переживания „оптимальной фрустрации“ ответственны за различение между желанием и реальностью. Оптимальная фрустрация — это в переживаниях ребёнка период задержки перед удовлетворением того или иного желания. Благодаря такой задержке ребёнок обретает понимание, что необходимо предпринять активные шаги в мире, чтобы удовлетворить своё желание. Согласно Хайнцу Кохуту [обучавшему фрейдовской теории с 1958 г. до конца 1960-х в Чикагском институте психоанализа], Фрейд выдвинул идею, что лишь посредством оптимальной фрустрации, то есть такой фрустрации, которая не является ни слишком интенсивной, чтобы оказаться травмирующей, ни слишком слабой, чтобы остаться незначительной, можно научиться отличать желания от реальности» (А. Сигел, 1996, стр. 27).

Грандиозность и идеализация в психологии самости Кохута
Кохут (1966/1978a) выдвинул гипотезу, что мир младенца естественно наполнен блаженством, — пока неизбежные ошибки в процессе материнской заботы не начинают угрожать этому блаженству. Чтобы защититься от разрушения своего безмятежного мира, младенец создаёт две новых системы «нарциссического совершенства». Одна из этих систем — «идеализированное имаго [или образ] родителя» — является попыткой защитить благополучие младенца путём наделения внешнего объекта безграничной властью и благостью. Вторая система — «нарциссическое „я“» — представляет собой фантазию, что всё хорошее содержится внутри самого младенца, а всё плохое — вне его. Позже Кохут (1968/1978b) изменит терминологию: «нарциссическое „я“» стало «грандиозным „я“».

Каждая из двух форм нарциссизма — грандиозность и идеализация — следует своей собственной траектории развития. Идеализированное родительское имаго — образ совершенного другого, с которым можно войти в тотальное слияние и который будет служить источником бесконечной силы, совершенной доброты и безграничной власти — неизбежно подвергается разочаровывающим сравнениям с реальным родителем. Если эти разочарования не оказываются чересчур внезапными или травматичными, имаго медленно, но верно превращается в идеалы. Грандиозное «я» ребёнка, — которое Сигел (1996) сопоставил с супергероем из комикса, способным достичь всего без каких-либо ограничений, — жаждет получить от родителей или других важных опекунов признание его совершенства и восхищение его поразительными силами. Согласно Кохуту (1966/1978a), без подобного положительно оценивающего свидетельства, без «блеска в глазах матери» нарциссическое «я» ребёнка не может обрести достаточную зрелость; если же ребёнок получает адекватное восхищение, его архаическая грандиозность взрослеет, превращаясь в реалистичные амбиции.
О взрослении у ребёнка идеализированного образа родителя и чувства грандиозного «я»
К 1971 году, моменту публикации «Анализа самости», Кохут оказался готов обсуждать, что происходит, если не наблюдалось подобающего процесса взросления идеализированного родительского образа и грандиозного «я». Как мы видели, если идеализированное родительское имаго у ребёнка подвергается постепенному давлению со стороны ряда разочаровывающих, но терпимых переживаний, получаемых во взаимодействии с реальным родителем, тогда происходит интернализация ребёнком идеализации, которая обретает форму идеалов. Например, идеализированное имаго «папочки» как безупречно благородного, всецело морального, совершенно справедливого хранителя истины может созреть и обрести форму более абстрактной любви к справедливости.

Однако если развитие в этой линии нарушается, возможно — в результате разочарования в фактическом отце, наступившем чересчур внезапно и травматично, чтобы его переварить, то идеализирующий нарциссизм не сможет созреть до формы идеалов, вместо этого оставаясь навязчиво активным во взрослой жизни человека. Это может привести к тому, что индивид будет вынужденно искать людей, — а не абстрактных идеалов, — которых он мог бы идеализировать в течение всей своей жизни. Крайние примеры такой патологии можно увидеть, скажем, в случае с участниками деструктивных сект.
Если грандиозное «я» фрустрируется достаточно терпимым (то есть оптимальным) образом, — например, когда мать иногда хвалит ребёнка, а иногда слишком занята своими делами, чтобы заметить «величие» ребёнка, — тогда потребность в восхищении у ребёнка имеет возможность обрести более зрелую форму амбиций по получению признания за подлинные достижения в реальном мире. Однако если разочарование слишком травматично, — быть может, мать находилась в депрессии и вообще никогда не замечала ребёнка, — тогда, согласно Кохуту, у ребёнка не будет прогресса в этой линии развития, когда он может в воображении своём представить возможность получить достаточное признание посредством достижений в повседневной жизни. В таком случае мальчик или девочка даже во взрослом возрасте будет сохранять качества архаической грандиозности, проходя свой жизненный путь в условиях отсутствия стабильной самооценки (самоуважения), быть может — имея острую чувствительность к воображаемым проявлениям пренебрежительного отношения или же постоянно требуя от других к себе внимания. В экстремальном проявлении это называется «пограничной личностью».
Возвращение себе идеализаций и интеграция чувства грандиозности как путь взросления самости у Кохута
Кохут (1971) считал, что успешное взросление идеализированного родительского имаго представляет собой процесс «трансмутирующей интернализации». Это означает, что идеализации, наброшенные на опекунов, при условии постепенного возвращения их себе, впитываются психикой ребёнка. И тогда они формируют «новые структуры, которые принимают на себя психологические функции, ранее осуществлявшиеся идеализированным объектом, лишённым личностных качеств объекта [т.е. фактически безличностно воспринимаемым, — прим. перев.]» (Siegel, 1996, p. 7). <…>
В отношении грандиозного «я» можно провести параллели с пониманием Кохутом успешного взросления идеализированного родительского образа как процесса «трансмутирующей интернализации». Кохут (1971) считал, что грандиозное «я» тоже может быть трансмутировано, или преобразовано: может произойти процесс трансформации от ситуации, в которой у индивида проявляются абсурдно гипертрофированные требования к тому, чтобы на него обращали внимание, и недостижимые фантазии о власти, доминировании и восхищении, к возникновению «самости», или «я», способной искренне радоваться повседневной жизнью и её возможностями.

Но имеется одно весомое отличие. Преобразование родительских идеализаций требует, по меньшей мере, некоторой поддержки со стороны родителя — например, определённой готовности со стороны родителя принимать направленные на него ребёнком идеализации. Тем не менее, если в процессе взросления не происходило психотравмирующих и внезапных разочарований в идеализируемой фигуре, тогда в ходе каждодневного сопоставления идеализированных образов-имаго с реальными родителями будет неизбежно происходить более или менее автоматическое и постепенное извлечение идеализаций из объекта путём их поэтапной метаморфозы в абстрактные идеалы. С другой стороны, трансформация архаической грандиозности в реалистичную самооценку требует активного участия родителей в признании и поддержке потребностей ребёнка в восхищении, а посему, для этого необходимы родители, которым комфортно [спроецированное на них] чувство собственной грандиозности. Сигел (1996) предлагает прекрасный пример этого «правильного» соучастия:
«[Двухлетний мальчик] попытался встать и выпрямиться на вытянутой ладони своего отца. Мальчик забрался на его ладонь и после короткого усилия уловить равновесия, встал и выпрямился. Отец с гордостью сказал: «Чемпион мира!!!», — и мальчик триумфально воздел руки над головой, с улыбкой до ушей. Как статуи, они так и стояли в единстве друг с другом, пока мальчик, подобрав правильный момент, не обернулся и прыгнул в руки отца, а тот его заключил в радостные объятия.
Эта игра является замечательным примером соучастия отца в эксгибиционистском нарциссизме своего сына и оказания буквальной поддержки ему. Комфортное принятие отцом грандиозности своего сына способствует мягкой интеграции эксгибиционизма в самость мальчика. Отец выполняет психологическую функцию зеркала, которое валидизирует, принимает и спокойно отражает грандиозность мальчика. Отцовское участие в игре и его открытая радость в отношении экспансивности своего сына помогает регулировать интенсивность этого изобильного сияния грандиозности. Отец создаёт безопасное пространство для игры, в котором нарциссизм мальчика может существовать, нетронутый стыдом, виной, стеснением или гиперстимуляцией» (стр. 87).

Согласно Кохуту, родитель, который легко выполняет функцию зеркала (как в приведённом Сигелом примере) или без затруднения выполняет другую важную функцию — функцию вмещения в себя идеализации со стороны ребёнка, — не воспринимается ребёнком в качестве самостоятельной личности. Скорее, этот родитель воспринимается как часть самости ребёнка, как расширение его «я», и Кохут (1971) назвал эту способность выполнять функцию психологического расширения «функцией „я“-объекта». Человека, выполняющего эту функцию, он назвал «„я“-объектом» (self-object). Позднее он убрал дефис и создал термин «яобъект», или «самообъект» (selfobject), чтобы подчеркнуть идею, что: «исполняющий данную функцию объект не переживается как нечто отдельное от „я“».
«Психологические структуры <…> представляют собой интернализации утешающих, регулирующих напряжения и адаптивных функций, ранее исполнявшихся самообъектами. Эти структуры развиваются в результате постепенного извлечения нарциссизма из объектов. Ранее этот нарциссизм направлялся на старые идеализированные объекты, теперь же данные структуры продолжают выполнять свои психологические функции даже при отсутствии самообъекта» (Siegel, 1996, стр. 72).
Самость как центр опыта и инициативы у Кохута
Будучи глубоко убеждённым в том, что самость есть нечто «запредельное эмпирическому знанию, некое надстоящее понятие, нечто большее, чем просто сумма своих частей, то, что имеет связность в пространстве и континуальность, или непрерывность, во времени» (стр. 177), Кохут видел в ней «независимый центр инициативы <…>, центральное метапсихологическое понятие» (Lee & Martin, 1991, стр. 180). Это было радикальным отходом от психоаналитических теорий, видевших «самость» в качестве содержимого «разума», то есть в качестве собрания саморепрезентаций. В кохутовском взгляде, «самость» функционирует как нечто целое, или единство: это одновременно и объединяющий организующий принцип — например, в качестве центра непрерывности переживания, или того, что Винникотт (1988) назвал «продолжением быть» (going on being), — и единый деятельностный центр — например, когда ребёнок научается моторно-двигательному контролю (Lee & Martin, 1991). Если среда, в которой находится младенец, создаёт необходимые условия для правильного эмоционального развития, тогда, как считал Кохут, эта «нуклеарная самость» (или «самость-ядро») будет
«устанавливать непрерывную дугу напряжения от базовых амбиций через базовые таланты и навыки к базовым идеалам. Эта дуга напряжения представляет собой динамическую сущность полноценной, недефективной самости <…>, учреждение которой позволяет вести творчески продуктивную и наполненную жизнь» (1977, стр. 4). <…>
 Теория Кохута подразумевала, что самость есть нечто, чему суждено быть, что должно было возникнуть, и лишь неспособность оказать необходимую заботу может помешать данному процессу развития. <…> Кохут не рассматривал агрессию как «врождённое влечение-драйв, требующее разрядки»; он видел её как «„продукт дезинтеграции“, возникающий как реакция на неотзывчивую среду, затормаживающую развитие нуклеарной самости младенца» (White & Weiner, 1986, p. xx, курсив мой); иными словами, агрессия представляет собой не врождённое влечение, а ответ на ошибочные родительские проявления. Таким образом, модель Кохута можно считать теорией, возлагающей вину на родителя, в отличие от возлагающих вину на ребёнка теорий Мелани Кляйн. Последняя воспринимала родителя как мишень фрустраций ребёнка, его зависти и ненависти, и возлагала вину за образовывающуюся в дальнейшем патологию на излишек агрессии в новорождённом (Lionel Corbett, личное сообщение от 2 декабря 1995). В этом-то и заключается суть кохутовского отхода от своей ранней работы в качестве фрейдовского психоаналитика: влечения-драйвы не создают самость, то есть
Теория Кохута подразумевала, что самость есть нечто, чему суждено быть, что должно было возникнуть, и лишь неспособность оказать необходимую заботу может помешать данному процессу развития. <…> Кохут не рассматривал агрессию как «врождённое влечение-драйв, требующее разрядки»; он видел её как «„продукт дезинтеграции“, возникающий как реакция на неотзывчивую среду, затормаживающую развитие нуклеарной самости младенца» (White & Weiner, 1986, p. xx, курсив мой); иными словами, агрессия представляет собой не врождённое влечение, а ответ на ошибочные родительские проявления. Таким образом, модель Кохута можно считать теорией, возлагающей вину на родителя, в отличие от возлагающих вину на ребёнка теорий Мелани Кляйн. Последняя воспринимала родителя как мишень фрустраций ребёнка, его зависти и ненависти, и возлагала вину за образовывающуюся в дальнейшем патологию на излишек агрессии в новорождённом (Lionel Corbett, личное сообщение от 2 декабря 1995). В этом-то и заключается суть кохутовского отхода от своей ранней работы в качестве фрейдовского психоаналитика: влечения-драйвы не создают самость, то есть
«человек не рождается для конфликта <…>, он не обязательно находится в отношениях противостояния своим родителям или своей культуре, и <…> его развитие не определяется и не предопределяется влечениями или инстинктами, как понимал их психоанализ» (Basch, 1984, стр. 29).
Формирование самости и блеск в глазах родителей
Баш (Basch, 1984, 1988) считал, что чувства [в отличие от базовых аффективных проявлений, — прим. перев.] начинают возникать в возрасте примерно 18 месяцев, когда аффективные реакции начинают сопересекаться с возникающим чувством «я», или самости. Это соответствует идее Кохута (1977) о том, что при наличии «среднестатистически ожидаемой заботы» нуклеарная, двухполюсная самость начинает являть себя в течение второго года жизни. Под «двухполюсностью» здесь имеется в виду то, что эта самость-ядро состоит из двух секторов: первичных амбиций и первичных идеалов. Кохут считал, что ребёнок «имеет два шанса на установление крепкой ранней двухполюсной самости. Первая возможность осуществляется посредством преисполненных одобрения, поддержки и отражения отношений с материнским самообъектом; вторая же возможность осуществляется посредством отношений с вдохновляющим восхищение, идеализированным, обычно отцовским самообъектом» (Berkowitz, 1983, стр. 128).

Мэриан Толпин (1983) указывает на то, что Кохут позднее расширил эту двухполюсную модель самости до трёхполюсной, добавив ещё один вид самообъектных отношений, названный Кохутом «близнецовостью» (twinship), которые она сама предпочитала называть «партнёрствующим „я“».
«Базовые психологические составляющие нуклеарной самости: (1) грандиозное эксгибиционистское „я“ — так сказать, ребёнок, восклицающий „Ма, смотри: рук нет!“ и глядящий на своих родителей, чтобы увидеть „блеск“ в их глазах и ответную улыбку; (2) идеализирующее „я“ — ребёнок, который смотрит вверх, тянется к родителям, желает, чтобы его взяли на руки, успокоили и взбодрили, дабы он мог восстановить силы и снова с определённым энтузиазмом оглядываться по сторонам, чтобы увидеть, чего интересного происходит вокруг; (3) „партнёрствующее“ „я“ — ребёнок, который хочет держать родителей за руки, быть с ними (подобно [маленькому мальчику], который ходил по маленькому тогда же, когда [и папа])» (стр. 120).
В конечном счёте, кохутовская трёхчастная модель была даже ещё более расширена: Стерн (1985) выделил семь различных форм самообъектных отношений. Однако основная идея остаётся неизменной: каждый младенец рождается с фрагментарной (раздробленной) самостью, которая обретает крепость, связность, определённость и стабильность посредством взаимодействий с опекунами, которые эмпатично откликаются на потребности младенца. При условии достаточной «эмпатичной сонастроенности» младенец постепенно интернализирует функции опекунов, однако неадекватно плохая сонастроенность приводит к задержкам развития в одном или более секторах самости, оставляя в результате структурные дефициты, требующие компенсации такими способами, которые могли быть приемлемы для ребёнка, но которые не являются фазоприемлемыми для взрослого. К примеру, младенец, которому недоставало адекватной отражённости (он не видел достаточного блеска интереса и одобрения в глазах матери), может вырасти во взрослого, который стремится получить одобрение со стороны других людей такими способами и в таких ситуациях, которые нецелесообразны, деструктивны или опасны.

В зависимости от того, насколько архаичны сформировавшиеся в развитии лакуны и насколько они многочисленны, взрослый человек может либо переживать отдельные, изолированные эпизоды чувствительности, как это происходит в случае с большинством из нас, либо же он может быть погружён в муки тяжёлого нарциссического расстройства, которому характерна самость, не являющаяся связной, «самость раздробленная», требующая постоянной стимуляции (аффективного возбуждения) просто для того, чтобы продолжать поддерживать чувство, что она вообще есть. Подобные случаи попадают во внимание психотерапевтов через разнообразные проявления: депрессия, ярость, тревога, зависимости, извращения, крайняя ранимость к пренебрежительному отношению, навязчивые мысли, сексуальное отыгрывание и т. д. (Kohut 1977, 1984).
Наисокровеннейшее предназначение человека в психологии самости Кохута
К счастью, согласно Кохуту (1977), человеческой психике внутренне присуща тенденция к продолжению своего развития. Она делает возможной психотерапевтическую интервенцию даже в тяжёлых расстройствах самости. Такая интервенция является сложным процессом, однако можно попытаться вкратце выразить основную идею: аналитик эмпатично «сонастраивается» с пациентом посредством «косвенной интроспекции <…>, [т. е.] способности вдуматься и вчувствоваться во внутреннюю жизнь другого человека» (Kohut, 1984, стр. 82). Эта эмпатийная сонастройка провоцирует формирование состояний переноса, которые обретают форму дефицитов развития, присущих пациенту. Иными словами, когда пациент чувствует сонастроенность с ним аналитика, он начинает требовать от него то, в чём он нуждался, но чего не получил во младенчестве и детстве.

Так, пациент, чья инфантильная грандиозность не была в достаточной мере отражена — т. е. увидена и поддержана, — может проявлять желание, чтобы его беспрерывно слушали с неувядающим интересом. Аналитик, даже если он или она и попытается удовлетворить все требования пациента, неизбежно не сможет полностью им соответствовать. Это вызовет негативные реакции со стороны пациента. Аналитик неизбежно «терпит неудачу» в удовлетворении этих требований, потому что даже если бы он и достиг более-менее точного понимания чувств пациента и даже если бы он признал, что пациент имеет право на эти чувства, не существует ни малейшей возможности всецело удовлетворить подобные архаические потребности в рамках ограничений психоаналитического контекста. Реакции пациента на подобные «эмпатические неудачи» могут, в таком случае, быть интерпретированы с точки зрения истории его психологического развития. То есть в соотнесённости с его травматичными (нестерпимыми) разочарованиями в родительских самообъектах.
Согласно Кохуту, точно как неизбежные, но терпимые разочарования в неспособности родителей проявить эмпатию предоставляют возможность инкорпорирования пациентом внутри себя самообъектных функций родителя, так же подобные циклы «неудач со стороны психотерапевта» и интерпретирование разочарования пациента предоставляют возможность пациенту инкорпорировать в себя самообъектные функции, выполняемые аналитиком. Осуществляется это посредством «трансмутирующей интернализации» (1979, 1984). Таким образом, в рамках данной концепции психоанализ более не является процессом «осознания бессознательного» или процессом, выражаемым в принципе «там, где было „оно“ (ид), должно стать „я“ (эго)» (Freud 1933; цит. в Kohut, 1984, стр. 103). Скорее, теперь это процесс специфического понимания аналитиком потребности пациента и признание аналитиком, что данная потребность «легитимна <…> и как возрождение старой неудовлетворённой потребности, и как проявление универсальной потребности человека в самообъектах — потребности, настойчиво сохраняющейся у человека в течение всей жизни» (стр. 103).
 В кохутовской модели развёртыванию самости придаётся телеологическая направленность. Кохут отверг теории конфликта с влечениями (драйвами), предложенные Фрейдом, поскольку он, подобно К. Г. Юнгу, пришёл к уверенности, что самость есть нечто таинственное и непостижимое: «нам открыты [только её] интроспективно или эмпатически воспринимаемые психологические проявления» (1977, стр. 311). Как и Юнг, Кохут считал, что самости свойственна определённая врождённая предрасположенность: «нуклеарное „я“ <…> — структура, которая, как только она образуется, с самого начала имеет свою судьбу, или потенциальную жизненную траекторию» (1978c, стр. 594). Для Кохута осуществление этой судьбы является основным событием в жизни человека. То, что Юнг, вероятно, назвал бы «индивидуацией», Кохут называл сохранением верности своему «наисокровеннейшему предназначению», как это выражено, например, в этом высказывании:
В кохутовской модели развёртыванию самости придаётся телеологическая направленность. Кохут отверг теории конфликта с влечениями (драйвами), предложенные Фрейдом, поскольку он, подобно К. Г. Юнгу, пришёл к уверенности, что самость есть нечто таинственное и непостижимое: «нам открыты [только её] интроспективно или эмпатически воспринимаемые психологические проявления» (1977, стр. 311). Как и Юнг, Кохут считал, что самости свойственна определённая врождённая предрасположенность: «нуклеарное „я“ <…> — структура, которая, как только она образуется, с самого начала имеет свою судьбу, или потенциальную жизненную траекторию» (1978c, стр. 594). Для Кохута осуществление этой судьбы является основным событием в жизни человека. То, что Юнг, вероятно, назвал бы «индивидуацией», Кохут называл сохранением верности своему «наисокровеннейшему предназначению», как это выражено, например, в этом высказывании:
«Я верю, что на более позднем этапе жизни можно рассматривать определённую точку как жизненно важную. Это точка в жизненной траектории самости, на которой ключевая финальная проверка определяет, успешным ли оказалось предыдущее развитие или нет. <…> Но я склонен считать поворотным моментом даже ещё более поздний этап — поздний средний возраст, когда, приближаясь к неизбежному концу жизни, мы спрашиваем себя, хранили ли мы верность нашему наисокровеннейшему предназначению. Для некоторых людей это время совершеннейшей безнадёжности, предельной летаргии, время депрессии без вины и направленной на себя агрессии, которая захватывает тех, кто чувствует, что он не справился и не может исправить совершённую ошибку с учётом того времени и тех энергий, которые у него на этот момент имеются». (1977, стр. 241)
Подтверждение психологии самости Кохута в исследованиях привязанности Джона Боулби
Джон Боулби, — пусть он и обучался у Джоан Ривьер, кляйнианского психоаналитика, а супервизором у него была сама Кляйн, — в конечном счёте отринул кляйновскую идею о том, что источником эмоционального развития является группа эндогенных фантазий, произрастающих из инстинкта смерти и его конфликта с либидозными влечениями. Вместо этого Боулби выдвинул тезис о том, что в этом процессе наиважнейшую роль играют реальные внутрисемейные переживания, а не внутренние фантазии ребёнка (Bretherton, 1994).

Обширные наблюдения Боулби за детьми и интервью с их родителями убедили его в том, что
«для того чтобы психическое развитие разворачивалось беспроблемно, недифференцированной психике необходимо попасть под воздействие <…> со стороны психического организатора — матери. <…> Она ориентирует ребёнка в пространстве и времени, обеспечивает его средой, позволяет удовлетворять некоторые импульсы, ограничивает удовлетворение других. <…> Постепенно ребёнок научается этому разнообразному искусству и сам». (1951, стр. 53, цит. по Bretherton, 1994).
Эта концепция, по всей видимости, соотносится с идеей Кохута о родительском самообъекте и его поэтапной интернализации. Согласно Боулби:
«Совместная задача психотерапевта и клиента заключается в том, чтобы понять истоки работающих в клиенте дисфункциональных внутренних моделей самости и фигур привязанности. <…> Психотерапевт может оказать наибольшую помощь, служа надёжной, безопасной базой, опираясь на которую индивидуум может начать выполнение напряжённой задачи по исследованию и пересобиранию своих внутренних рабочих моделей» (стр. 454).
Данное высказывание подтверждает сделанное Кохутом наблюдение о том, что психотерапевт выполняет самообъектные функции для пациента, поддерживая их постепенное усваивание.
Здоровое развитие самости в отношениях с родителями: сопоставление психологии самости Хайнца Кохута с исследованиями Маргарет Малер и Дэниела Стерна
Маргарет Малер — психоаналитик, посвятившая многие годы непосредственному наблюдению за младенцами и тоддлерами с тяжёлой патологией, а также участвовавшая в параллельной программе по наблюдению за нормально развивающимися детьми. Малер сформулировала теорию развития, которая, по всей видимости, подтверждает кохутовскую теорию во многих сущностных положениях, невзирая на то, что экономика влечений-драйвов всё ещё играла важную роль в её собственной концепции. В теории сепарации-индивидуации по Малер мать в качестве главного объекта любви находится в центре развития ребёнка, и её «эмпатийная» отзывчивость на ребёнка имеет ключевое значение в том, чтобы помогать ребёнку здоровым образом развиваться через различные циклы сепарации-индивидуации (Delany, 1994).
«В дополнение к тому, что родитель является источником удовлетворения влечения, он выполняет также и функцию временного дополнительного эго — организующего воздействия, источника развивающегося внутреннего чувства самости, — а также объекта для интернализации и отождествления» (Settlage, 1994, стр. 21, курсив мой).
Формулировка данного высказывания напоминает самообъектные функции Кохута. Выдвинутая Малер идея «подзарядки» (refueling, 1975), — под которой понимаются подаваемые матерью своему ребёнку невербальные сигналы поддержки, в то время как тот трудится над попытками самоутвердиться в фазе сепарации, — по-видимому, сходны с взглядами Толпин на идеализационную самообъектную функцию (вспомните приведённое ранее высказывание Толпин: «[ребёнка] взбодрили, дабы он мог восстановить силы и снова с определённым энтузиазмом оглядываться по сторонам»).

Предложенная Малер концепция важности эмпатического взаимодействия родителя с ребёнком для того, чтобы происходило здоровое раннее развитие, аналогична идеям, обнаруживаемым у Кохута. Малер, судя по всему, наиболее созвучна Кохуту в постулировании, что корни пограничной патологии находятся в задержках на ранних фазах развития. Для Малер это связано с неудачами в прохождении подфазы «воссоединения» в рамках процесса сепарации-индивидуации в возрасте 16–25 месяцев (Mahler, 1975), а также с наблюдением, что «реанимация ранее заблокированного развития являет собой неотъемлемое свойство и мощную психотерапевтическую силу психоаналитического процесса» (Levine, 1994, стр. 123).
В свою очередь, предположения Стерна (Stern, 1985) о субъективной жизни младенцев, выдвинутые им на основе собственных обширных исследований психологического развития младенцев, а также на основе данных наблюдений, описанных другими исследователями, поддерживают многие из формулировок Кохута как прямо, так и косвенно. Например, Стерн утверждает:
«Когда клинический взор наблюдает за развитием младенца, то он практически не видит какой-либо патологии. <…> Вместо этого наблюдению открываются некоторые характерные паттерны и некоторые вариабельные паттерны. Однако есть очень мало оснований у утверждения, что какие-либо отклонения от нормы обязательно приведут к патологии на более позднем этапе. Если же девиации всё же наблюдаются, то как девиантные наблюдаются именно взаимоотношения с опекуном, а не только лишь сам младенец» (стр. 186, курсив мой).
Это в серьёзной степени поддерживает центральную кохутовскую телеономию: в атмосфере адекватных отношений между самостью и самообъектами самость, как правило, развивается здоровым образом.
Кохут считал, что аффекты и переживания объединяются и создают интернализированные, устойчивые имаго-образы, которые видоизменяются и постепенно обретают всё большую зрелость по мере получения нового опыта. Однако они остаются навсегда необходимы для чувства бытия самими собой. Такова функция самообъектов. В систематике Стерна они получили название «репрезентаций генерализованных взаимодействий» (РГВ). Согласно Стерну, они «представляют собой базовую единицу для репрезентации ядра-самости» (1985, стр. 98). Если РГВ включали в себя фактического человека, то, согласно Стерну, активация РГВ (которая может произойти в результате воспроизведения даже малейших аспектов оригинальных переживаний) может произвести «вызванное чувство компаньона» (evoked companion) — внутреннее чувство присутствия данного человека, которое более не зависит от его физического существования. Это, очевидно, очень сходно с кохутовским понятием самообъекта.
Эдипова фаза как стадия здорового развития (Хайнц Кохут и Дональд Винникотт)
 Один из важных пунктов отхода Кохута от своей ранней приверженности фрейдовской ортодоксии состоял в его заявлении, что кастрационная тревога, занимающая центральное положение в более раннем психоаналитическом каноне, не является
Один из важных пунктов отхода Кохута от своей ранней приверженности фрейдовской ортодоксии состоял в его заявлении, что кастрационная тревога, занимающая центральное положение в более раннем психоаналитическом каноне, не является
«свойством эдиповой фазы здорового ребёнка у здоровых родителей. <…> Здоровый ребёнок у здоровых родителей входит в эдипову фазу с радостью. Радость, переживаемая им, вызвана не только тем фактом, что сам он с гордостью отзывается на собственное достижение, обретённое в ходе развития, а именно — на новую и расширяющуюся способность к эмоциональным отношениям и самоутверждению, но также и тем фактом, что это достижение вызывает сияние эмпатической радости и гордости со стороны самообъектов эдиповой фазы». (1984, стр. 14)
Здесь речь идёт о новом понимании эдипового периода как фазы развития, которая не становится патогенной в том случае, если ранее в развитии не было нарушений и дефицитарная семейная среда не оставила ребёнка без здоровых отношений между самостью и самообъектами. Сам Кохут в другой своей работе высказывается следующим образом: «Этот определённый набор конфликтов, называемый эдиповым комплексом, является не ведущей причиной психопатологии, а её результатом» (1984, стр. 53). Это новое понимание напоминает утверждение Винникотта (1988):
«Эдипов комплекс — это <…> описание достижения здоровья. Нездоровье присуще не эдипову комплексу, а вытеснению идей и подавлениям, следующим из <…> конфликта. Тот мальчик здоров и счастлив, кто достигает [эдиповой стадии] в своём эмоциональном и физическом развитии в условиях полноценной семьи и кого в неудобных ситуациях по-настоящему видят <…> оба родителя, которых он хорошо знает, которые терпимо относятся к идеям и чьи взаимоотношения достаточно крепки, чтобы они не боялись груза близких отношений, порождённых аффектами любви и ненависти со стороны ребёнка» (стр. 50).

Психотерапевтический процесс в подходе психологии самости Кохута
С точки зрения аналитической психологии самости, механизм исцеления мистера Z осуществлялся преимущественно не через самопознание — не через фрейдовский принцип «где было „оно“ (ид), там должно стать „я“ (эго)», — а через постепенную аккумуляцию структуры самости посредством трансмутирующей интернализации функций, поначалу обеспечиваемых психоаналитиком. Кохут (1984) позднее приходит к выводу, что подобное исцеление происходит в результате трёхшагового процесса.
Первые два шага включали в себя 1) анализ защитных проявлений пациента и 2) развёртывание переносов,
«тогда как третий шаг, самый важный, ибо он определяет цель и результат исцеления, представляет собой открытие пути эмпатии (сопереживания) между самостью и самообъектом, а именно — установление эмпатической сонастроенности между „я“ и самообъектом на взрослых уровнях зрелости. Этот новый канал эмпатии на постоянной основе занимает место ранее вытесненного или расщеплённого архаического нарциссического отношения; он снимает путы, которыми ранее архаическая самость была привязана к архаическому самообъекту» (стр. 65).
В рамках клинической практики первый шаг будет включать в себя процесс осознавания психоаналитиком характерных защит пациента. В случае мистера Z соответствующими защитами были высокомерие, чувство превосходства и надменность. У другого пациента защиты могут всецело отличаться и быть даже противоположными: к примеру, самоуничижение и покорность. С осознанием характерных защит пациента аналитик обретает понимание этих механизмов, которые он затем может объяснить самому пациенту.

Такое объяснение не обязательно будет формально-техничным (на самом деле, скорее всего таковым оно не будет). К примеру, аналитик может сказать: «Похоже, ты нуждаешься в том, чтобы чувствовать превосходство надо мной». У пациента возникает ощущение, что его поняли, которое может спровоцировать второй шаг, а именно — формирование переносов (трансференций) в пациенте. Эти переносы, согласно кохутовской концепции, будут принимать характер возникших в ходе развития дефицитов в структуре самости пациента. Например, если пациент не получил достаточной отражённости (mirroring) совершенно естественного раннего чувства грандиозности, то ему может потребоваться быть отражённым со стороны аналитика. Подобное отражение может принять форму замечания и поддержания аналитиком достижений пациента или, возможно, просто по-настоящему внимательное слушание пациента.
Однако потребности пациента, выражаемые в рамках переноса, никогда не могут быть полностью удовлетворены. Это будет провоцировать реакции и жалобы со стороны пациента. Затем эти потребности — в данном примере это потребности в отражённости — могут быть объяснены пациенту. Например, аналитик может сказать: «Когда я понял, что ты мне говорил, я заметил, что ты, кажется, расслабился. Ты выглядел спокойным и удовлетворённым. Должно быть, хорошо быть услышанным и понятым. Однако когда я неверно тебя понял, ты расстроился».
За объяснением переноса может последовать следующий, третий, шаг — открытие пути к эмпатичному общению на зрелом уровне. Другими словами, и аналитик, и пациент вместе могут начать понимать и сопереживать ситуации пациента таким образом, который ранее был невозможен, когда пациент был ограничен структурой защит. Подобная коммуникация сама по себе оказывается целительной. Вместо того, чтобы оставаться в ловушке дефицитарной самости, привязанной к ранним «я»-объектам, более не являющимся уместными во взрослой жизни, пациент будет интернализировать стиль коммуникации цельного «я», который в дальнейшем станет частью самости пациента, как это могло бы случиться в детстве при условии получения достаточно эмпатичной заботы.

Источник
Роберт Салцман, «Хайнц Кохут и изобретение психоаналитической психологии самости», глава из книги «Психотерапия как личная исповедь»2 (Saltzman R. Heinz Kohut, and the Invention of Psychoanalytic Self Psychology // Psychotherapy as Personal Confession. 1998. URL: http://www.dr-robert.com/PSYCHOTHERAPY%20AS%20PERSONAL%20CONFESSION.html Перев. фрагментов статьи с англ.: Е. Пустошкин, pustoshkin.com, integralmeditation.ru, eroskosmos.org, 2018.)
См. также
- Кен Уилбер, «Трансформации сознания» (фрагменты из книги, посвящённые интеграции теории объектных отношений, эго-психологии и психологии самости)
- Джин Хьюстон, «Расшифровывая даймона» (юнгианский взгляд, параллель с идеей Кохута о наисокровеннейшем предназначении)
- Robert Saltzman, «Heinz Kohut, and the Invention of Psychoanalytic Self Psychology» (в неопубликованной книге Psychotherapy as Personal Confession, 1998; см. прим. 2 в подразделе «Источник» настоящей подборки). ↩
- По-видимому, книга существует лишь в рукописи и официально не издавалась. Полная электронная версия книги: http://dr-robert6.tripod.com ↩